Летние хроники (и некоторые воспоминания)
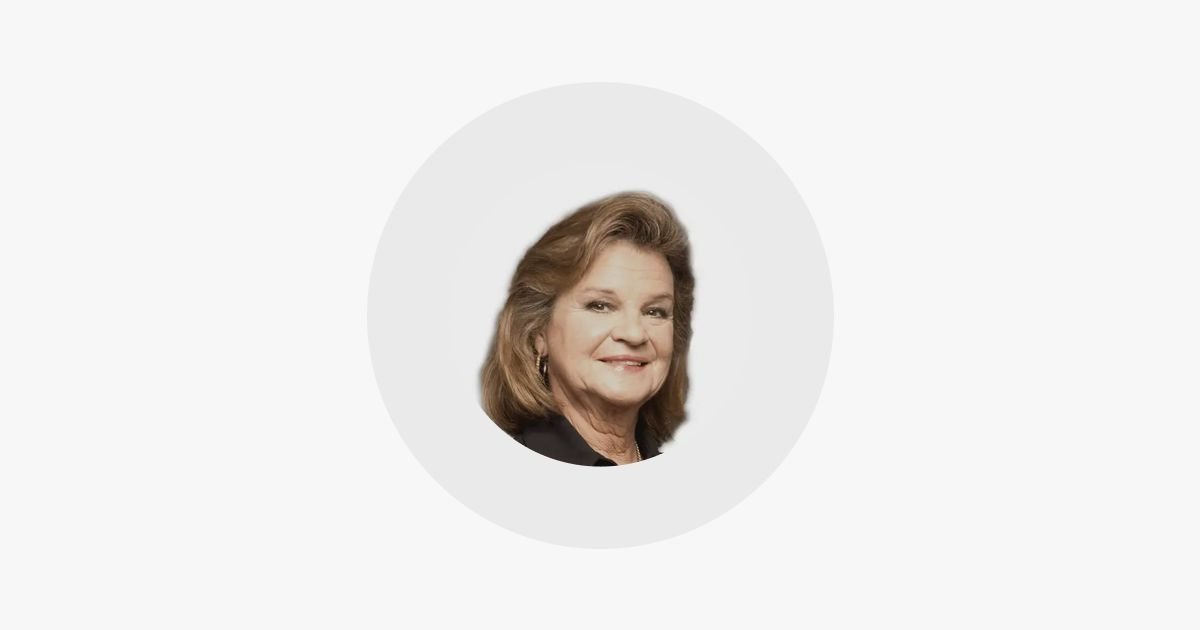
1. «Бенфика» — горячая тема в этом зале, особенно сейчас, в предвыборный период. Этот суровый июль даже воспринимается как лето/сезон выборов. Мы к этому привыкли, уже добрых пару лет живём на избирательной карусели, и нам ещё предстоит два политических назначения, но меня интересует именно «Бенфика». Не для того, чтобы обсуждать кандидатов на одну руководящую должность, а потом на другую, или кандидатов, которые поднимут лёт «орлов», а чтобы порадоваться.
2 Дело в том, что, когда разговоры разворачивались дома, здесь, на Западе, тема кандидатуры Мартима Боржеса Коутиньо, естественно, всплыла. Не случайно. Мартим — внук лучшего президента, которого когда-либо знала «Бенфика»; он любит «Бенфику», носит её в своей душе и теле; он отождествляет себя со своим дедом и хочет пойти по его стопам и в его деле. И вдохновение, и преданность, и достоинство.
Когда несколько дней назад в ходе теледебатов его назвали «мужественным», он заменил это прилагательное на «убеждённый». Должно быть, это правда: как он также сказал, он «готовил свою кандидатуру тринадцать лет», полный «убеждённости».
Но — и это я сейчас — я также проявил смелость, заявив, что «Луиш Филипе Виейра не имел права баллотироваться на государственную должность». По крайней мере, этика может быть сомнительной.
Хотя я до сих пор не совсем хорошо знаю своего внука, я никогда не забывал его деда, Боржеса Коутиньо. Но мысль о том, что у этого великого гражданина и величайшего президента сейчас, а может быть, и в будущем, появится прямой преемник на посту президента «Благословенного», сделала бы меня очень счастливым. Вот такие вот хорошие вещи в жизни. Независимо от того, победит ли Мартим Боржес Коутиньо на этих почти драматичных выборах в «Бенфике» в октябре, он начинает показывать: он уже зарекомендовал себя и проявил хладнокровие; он привнёс качество в сложные выборы; он продемонстрировал структурированное понимание величайшего футбольного клуба Португалии.
3 Футбол пришёл ко мне рано и с трудом, как и «Бенфика». Мой отец, как и многие его сородичи, болел за «Белененсеш». Многие его друзья дома болели за «Спортинг». О «Бенфике» говорили редко. Не знаю, откуда взялась моя склонность, а затем и моя полная – неизменная и по сей день – преданность «Бенфике», пока я не понял, что, любя «Бенфику», я люблю Португалию.
«Ах, «Бенфика» — это как гавань, место, где чувствуешь себя частью команды, семья, место, откуда ты родом», — написал я однажды в «A Bola» в феврале 2004 года, в честь первого столетия со дня основания клуба. И, конечно же, для меня было честью быть приглашенным «Bola» и работать «пажом» вместе с Мануэлем Алегри и Багау Феликсом, двумя «дополнительными» болельщиками «Бенфики».
Вся Португалия дышит «Бенфикой», потому что в каком-то смысле «Бенфика» — это Португалия: они обе отражаются друг в друге, и вам достаточно оказаться на стадионе во время игры «красных», чтобы понять, что я имею в виду.
Именно «Бенфика» всегда встречалась мне во время моих многочисленных поездок в португалоязычную Африку, как до, так и после обретения независимости. «Бенфика» — моя вторая родина.
В какой-то момент я стал членом клуба. Помню, как шёл пешком от нашего старого дома в Кампу-Гранди до стадиона, с ликующим сердцем и обострёнными чувствами по асфальту. Сколько испытаний я видел своими глазами, в красном берете и полосатом шарфе, с таким пылким энтузиазмом, что доводил меня до хрипоты? А потом появился величественный собор, на открытии которого я, естественно, присутствовал 25 октября 2003 года. По правде говоря, я чувствовал связь с «красными» через ту самую частную энергию, которую «Бенфика» тайно хранила и (почти...) всегда демонстрировала исключительно на поле.
Я бережно храню фотографии, письма, сувениры, открытки, заметки и выцветшие газеты, в которых я писал о тренерах (Артуре Жорже, Эрикссоне, Фернандо Сантосе, Сколари и совсем недавно Фредерико Варандасе) и выдающихся игроках или брал у них интервью.
4 Футбол остаётся величайшим зрелищем в мире, величайшим явлением в мире, величайшим источником, агрегатором и распределителем эмоций; величайшим двигателем мгновенной, автоматической и постоянной мобилизации. Сильнейшей связью между людьми, кем бы они ни были, откуда бы они ни были, независимо от цвета кожи, вероисповедания, возраста или пола.
Есть ли те, кто всё это ненавидит? Конечно, есть. Им не повезло. Они никогда не знали ни радости, ни накала коллективных эмоций, когда мяч забивается в ворота соперника, обеспечивая себе победу, титул, кубок. Или нет: есть голы, розыгрыши, передачи и угловые настолько феноменальные, что только они способны преодолеть поражение, искупить неудачи и войти в историю футбола.
Глобальная смерть Диогу Жоты – восхитительного Диогу Жоты, и не только благодаря его одарённой игре, – никогда бы не стала всемирной, будь Диогу блестящим художником, писателем, лауреатом Нобелевской премии, замечательным танцором или самым вдохновенным музыкантом. Я вновь переживаю потрясение всей страны и благородные чувства команды «Ливерпуль», масштабное прибытие британского клуба в Португалию – менеджеров, игроков и тренеров; траур и мобилизацию тысяч и тысяч англичан; неожиданное вмешательство премьер-министра Стамера; освещение в европейской и международной прессе, нескончаемый поток проникновенных соболезнований.
Чрезмерно? Могу ответить на вопрос кратко: это футбол. И нет ничего в мире, что одновременно и повсеместно вызывало бы такую же «готовность» реагировать и реагировать на футбол.
Да, повторяю: есть ли те, кто презирает, критикует эту «иррациональность»? Да: именно они, эти несчастные. Они остаются снаружи, не в силах перелезть через стену и ощутить несомненную тревогу, которую вызывает мяч, бегущий по четырём линиям.
5 Я начал со встречи с Эусебио, ходил на его игру, разговаривал с ним, летал на том же самолёте, где он был профессиональным болельщиком «Бенфики», а однажды я сам пошёл смотреть выездной матч. Гений был прямо передо мной. И смирение, которое осталось со мной на всю жизнь.

В июне-июле 1966 года я умирал от восторга, наблюдая, как «чёрная пантера» делал всё, что хотел – от себя самого, от товарищей по команде, от соперников, от результатов. Пока он не добился волшебного результата – третьего места на чемпионате мира того года. Какое лето, боже мой!
А когда Фигу — ещё один гений, помните? — был в «Барсе», я убедил Экспрессо отправить меня в «Барселону». Я ушёл в октябре 1997 года, совершенно поражённый. Я ожидал найти кумира, героя, игрока, уверенного в себе, а Луиш Фигу был воспитанным, сдержанным, приветливым, непритязательным. Ничего не вскружило ему голову: ему было 24, и я понял, что он уже так же хорошо разбирается в жизни, как и в стадионах.
От него я слышал только очень дельные вещи о «дисциплине, методичности, старании» каталонского клуба, где он был три года; об успехе, карьере, деньгах («нет, я не скажу вам, сколько я зарабатываю, потому что это неважно: мало или много, мое отношение было бы одинаковым»).

Фото Альберто Фриаса/Expresso
Тогда ещё совсем молодой Мигель Гедеш де Соуза, теперь женатый на Пауле Аморим и дирижёр JNcQUOI, управлял большим отелем в Барселоне. С нетерпением ожидая гостей, он предложил им номер-люкс в этом отеле, и там состоялся тот самый незабываемый разговор: Фигу — звезда, ведомая улыбкой богов.
В другой день — в марте 1981 года — я вошёл через «ворота для художников» на стадионе «Луш», и это «впечатление» и новизна сразу же отразились в (чрезмерно) показной эйфории, с которой я выражал свою поддержку «Бенфике» игрокам, мимо которых проходил, разыскивая вратаря Бенту. Футболиста, для которого «Бенфика была стартовой площадкой, паспортом, всем...»
Он собирался взять интервью у легендарного вратаря команды, которую в то время тренировал Бароти, чтобы лично встретиться с этим игроком, который «слишком много кричал на защитников», обвинение, которое всегда его раздражало: «а кто всегда видел все поле, если не он и только он?
«Я единственный, кто видит, кто за защитниками... Если кто-то ошибётся, отвлечётся, мяч окажется в сетке. Это самое неблагодарное место, потому что промахнуться невозможно. Вратарь неподвижен, но его рефлексы не дремлют, так что осторожность не помешает!»
И он настаивал: «Игрок может колебаться, а вратарь — нет. Вы замечали, что любой пропущенный нами гол в наши дни — это ошибка? Короче говоря, нужно быть непогрешимым».
Мы говорили об этом и о многом другом, когда внезапно дверь распахнулась, и в комнату с рычанием вошел «мистер» Бароти, старый лев с белой шерстью: «О, Бенто, неужели ты думаешь, что недостаточно того, что двадцать пять человек ждали тебя двадцать пять минут?»
6 Ах, Артур Жорже, и его «усы-экслибрис», и тот же нежный вид, и та же застенчивость. С одной стороны — спортивный зов, с другой — неподдельный интеллектуальный аппетит. Я познакомился с ним после того, как его тренерский состав «Футбол Клуб ду Порту» выиграл чемпионат Европы. Это был 1987 год, и ему было 43 года. (Позже я снова брал у него интервью для журнала.)

«Я человек, который старается быть проще. Мне бы хотелось быть легче, иногда я тяжёлый. Но именно эта способность переживать и хорошее, и плохое даёт нам силы, но также и эфемерность всего. Не всё всегда рационально...» Затем, как это иногда с ним бывало, разговор естественным образом перешёл из чисто спортивного в интеллектуальный, но Артур Жорже был именно плодом этой «смешанности» — он разглагольствовал о нашей истории, которой «гордился», о португальской идентичности, о ностальгии, о возвращении из Парижа, где тренировал «Матру»: «Один поэт из Александрии сказал, что нет смысла бежать из города; он неотступно преследует нас. Моё предназначение — вернуться. Не только в «Футбол Клубе ду Порту», но и на свою землю, в свой дом, в свой...» Он вернулся, победил и одержал победу, но с самой большой заботой и вызовом, заложенными в его душе: «уметь ответить на вопросы, которые футбол непрестанно ему ставил».
Это была правда: Артур Жорже всегда отказывался «истощать» себя в футболе, и что «футбол его не истощает»: «Я, конечно, работаю так усердно и упорно, как только могу, но правда в том, что всегда находились люди, готовые обсуждать со мной другие темы, на которые я отчаянно пытаюсь найти время».
Было известно: он читал множество книг, коллекционировал прекрасные картины, интересовался политикой, встречался с друзьями за пределами футбольного мира. Роман? Да. И, возможно, даже характер.

Фото Руи Васконселоса
О, но мне всё же нужно рассказать вам, пожалуй, самое лучшее, если не самое лучшее, о нём: это случилось, когда мне пришла в голову идея посадить Артура Жорже («Порту») и Эрикссона («Бенфика») вместе в «Публико», где я тогда работал, и послушать их. Особенно в то время, когда оба клуба шли вровень в национальном чемпионате.
Это был титанический труд. Сначала я поговорил с Эрикссоном: «Да». Я понял, что ему это покажется забавным, и, что ещё хуже, он хотел встретиться со своим соперником перед записью. Несколько дней спустя я отправился в Антас. «Хочу!» — ответил Артур Жорже через 15 секунд. Правда, оба — в отдельных интервью — признались мне во «взаимном восхищении». Между Лиссабоном и Порту разгорелась настоящая телефонная эпопея, вихрь свиданий, которые менялись, менялись и рушились. Пока в один прекрасный день — удача благоволит смелым — передо мной не появились два хорошо одетых и жизнерадостных джентльмена: первым пришёл Свен-Йоран Эрикссон в твидовом пиджаке и светлой рубашке, заказал чай и молча сел читать газету. Вскоре появился Артур Жорже, более общительный, в шёлковом галстуке с рогами изобилия, синей рубашке и белом воротничке. Он разговаривал, пил воду и улыбался. Два соблазнителя. Я заметил, однако, что между сдержанностью одного и большей болтливостью другого царило ожидание, близкое к сомнению («что из этого выйдет?»). Спустя несколько минут, в гробовой тишине офиса с включенным магнитофоном, элегантные соблазнители превратились в двух холодных и рациональных противников – этот титул достанется только одному из них – сидящих лицом к лицу: два высокоинтеллектуальных человека, два высококвалифицированных шахматиста. Два босса, которые могли быть безжалостными, но оценивали друг друга и слушали два часа, иногда способные на взаимную похвалу. Это был результат – я это тщательно отметил – того очень внимательного отношения, с которым они наблюдали и «наблюдали» друг за другом на поле. Никогда не скрывая «проблем и плохих отношений» между двумя клубами, они отвергали споры и, прежде всего, были благородны: «У больших клубов всегда были соперники, футболу это нужно», — сказал Артур Жорже, на что Эрикссон ответил, что «это часть футбольного зрелища»). Не отказываясь и не отрицая своих разногласий, они предпочитали говорить как тренеры, гораздо больше сосредоточенные на поле, чем на яростном соперничестве «Порту» и «Бенфики», хотя обе стороны понимали, что не смогут игнорировать его.
Два великих джентльмена.
7. Луис Фелипе Сколари, возможно, и не был яркой личностью. Но я хорошо запомнил его характер перед тремя камерами SIC в Карнашиде.
Сколари — серьёзный, рассудительный, основательный, уверенный в себе — пришёл с подарком: двумя футболками сборной, одной для Фигу, другой для Роналду. Он был одновременно способен на огромную любовь и крайнюю сухость: он говорил только то, что хотел. И в этот майский день 2005 года, помимо тактики и техники или тогдашнего «дела Витора Байи» («Я тот, кто выбирает состав»), Сколари прежде всего хотел воодушевить национальную публику: «В сложные матчи лучше играть, когда вся страна мобилизована вокруг национальной команды»: «Думаю, нам нужно поговорить с народом... Нам нужно вернуть фантастическую атмосферу Евро...»

В 2002 году он был признан лучшим тренером сборной мира и выиграл пятый чемпионат мира в Бразилии, но его хладнокровие, дисциплинированный ум и методичный подход не позволяли ему предаваться тщеславию или самодовольству. В жизни и в футболе он действовал одинаково: «шёл прямо вперёд, не оглядываясь по сторонам». В стране, где, как у нас, мало рабочих привычек, его считали «непримиримым» или «упрямым», мнения разделились, но ему было всё равно. Луиш Фелипе Сколари не безнаказанно выиграл 16 титулов за 20 лет на поле.
Португалия ему кое-чем обязана.
8 И потому что последний станет первым – в данном случае, «самым первым» – Свеном Йораном Эрикссоном, шведским ангелом, оставившим свой след, пример и память в «Бенфике». Светловолосый, стройный, сдержанный, молчаливый. Его милая улыбка, несмотря на многочасовую беседу в длинном интервью, растянувшемся на два дня, говорила только то, что было строго необходимо: я сразу понял, что ему никогда не придет в голову выплеснуть эмоции, показать своё состояние, сделать личное замечание. Он выполнял свою часть контракта: «футболу нужны газеты и журналисты; они питаются зрелищем и его звёздами», и – понятно – он, Эрикссон, ограничивался самым минимумом, помимо работы в клубе: вне скамейки запасных, тренировок, раздевалки, среди игроков или официальных лиц, слов было мало. СМИ и прожекторов было предостаточно, и только одна сцена имела значение: поле.
Поле и все остальное, чего не видно: плотный график тренера, свидетелем которого я стал целое утро в офисе на стадионе «Эштадиу да Луш», где он уделял внимание всем и каждому — сначала Жорже де Бриту, затем Шеу, затем группе директоров из Вены, где «Бенфика» должна была играть через несколько дней, и т. д. Он работал.

Второй акт разворачивался в его доме в Мальвейре — великолепном особняке с видом на Атлантику. Семейная атмосфера была невероятно дружелюбной: двое светловолосых детей; жена (с пронзительно-голубыми глазами), которая «выходила на соревнования и умела их потом обсуждать»; садовник, который, помимо того, что был трудолюбив, был «болельщиком «Бенфики»»; ленивый плотник, которого тренер с лёгкой раздражённой иронией спросил, «работает ли он всего час в день»; открытый бассейн над теннисным кортом. Маленький личный рай: «За все годы, что я играю в футбол, я ни разу не позволял журналистам или публике приходить к себе домой или к своей семье. В этом нет необходимости: я доступен каждый день, или почти каждый день...»
Таковы были жесткие ограничения, которые он сам себе наложил: его умная ясность уже подсказывала ему, что это единственный способ выжить в футбольных джунглях.
Но в тот майский день 1990 года он был невероятно добр ко мне и фотографу Руи Гагейру из Público: он открыл нам свой дом, был пунктуален, нарядился для фотосессий как теннисист, играл (!), позировал, улыбался. И он сказал: он был недоволен «сезоном»:
«Команда хороша только тогда, когда играет на все 100%! Я уже знал, что в этом сезоне некоторые очень важные игроки не имели перерыва — Алдаир, Валдо, Панейра — и что будут проблемы. В следующем году будет лучше, (...) но ни одна команда не может победить без отличной физической и технической подготовки, подготовки, которая включает в себя покупку правильных игроков и построение команды. Конечно, не всегда побеждает лучшая команда, но таков футбол, и именно это «никогда не знаешь, что может случиться» так здорово... В театре часто знаешь, чем закончится пьеса, не так ли? Если бы всегда побеждала лучшая команда, никто бы туда больше не ходил. Футбол — это игра, и в этом её прелесть...»
А тоска, тоска, одиночество «скамейки»?
Всё всегда зависит от игры. Если это домашний матч чемпионата, а «Бенфика» обычно выигрывает с разницей в два-три гола, то игра очень расслабленная. Но, конечно, когда остаётся десять минут до конца матча с «Марселем», и мы знаем, что один гол стоит финала... это хорошая тренировка для сердца... Как и слишком много жвачек, это лучше, чем курить, хотя и портит зубы... Все тренеры склонны много говорить и комментировать на скамейке запасных, но к игре нужно готовиться заранее, каждый день. Нельзя рисковать нервировать игроков, подсказывая им что-то каждую минуту... Ах да, ещё этот миф о том, что можно всё изменить в перерыве... какое безумие! Я мало говорю, только когда мне есть что сказать. Я всегда держусь на определённой дистанции. Если я начинаю говорить без необходимости, меня перестают слушать.
Но в тот день он мне кое-что умолчал. Я спросил его, есть ли у него что-то особенное из тех интересных персонажей Хемингуэя или Стейнбека, о которых он «всё прочитал».
«Тогда продолжим говорить о футболе?»
Мы виделись еще много раз, я снова брал у него интервью, однажды вечером я пригласил его на небольшой ужин в наш дом с такими же «эрикссонистами», как и мы; я смотрел несколько игр, которые он тренировал, здесь и за рубежом, и никогда не терял его из виду.
Я никогда не терял его из виду. И я плакал, когда он прощался с нами в Лусе, когда, к моему глубокому сожалению, он уже был – и я знал это – между своей лужайкой в Лусе и небом.
Он ушёл с молчаливым и достойным героизмом. Подобно ему, равный в жизни и смерти.
observador



